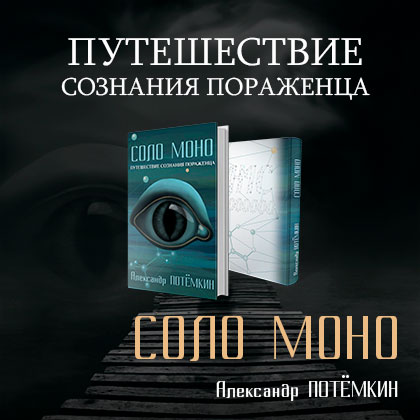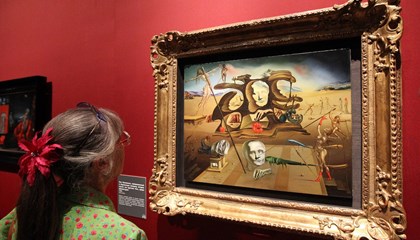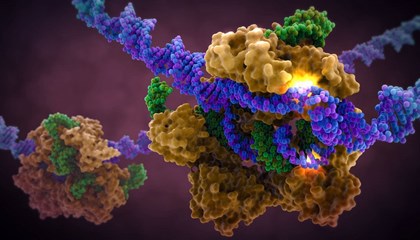Мы поговорили о проекте с Капитолиной Кокшеневой – генеральным директором Фонда, критиком, доктором филологических наук.
Мария Скрягина: Мы уже привыкли к процессу «актуализации классики» в современном театре. Причем, эта актуализация происходит очень по-разному. А можно ли говорить о процессе актуализации истории?
Капитолина Кокшенева: Актуализация классики происходила всегда, как то или иное произведение становилось классикой (то есть вступало в область образцовой национальной культуры). Но приемы актуализации могут существенно отличаться даже в современном театре. Кто-то облачает исторических героев в современный костюм и на этом успокаивается, а кто-то полностью ломает художественную «ткань» текста и начиняет ее культурологической и смысловой «взрывчаткой». Классический текст и «взрывается» на глазах у изумленной публики, как в недавнем спектакле по роману Достоевского «Идиот», где Настасья Филипповна была превращена в маленькую девочку, а Тоцкий, тут же, в педофила… Мы читаем классиков, обременённые своим опытом и никуда художник от него не денется. Следовательно, вопрос заключается в масштабе личности и мировоззрении режиссера, драматурга, писателя.
Актуализация истории тоже неизбежна. Но тут стоит различать все же разные области: или перед нами пьеса, написанная современным драматургом и в таком качестве допускающая вымысел; или перед нами научный труд, в котором мы хотим видеть более-менее «объективную» картину. Розанов, например, называл русскую литературу XVIII века всего только «помощью правительству». Конечно, тут речь не об услужливости литературы, но о её мизерности в сравнении как раз с реальной жизнью, в которой двигались и сотрясались основы.
Мне кажется, что современный творческий класс довольно плохо знает свою историю именно как историю. Плохо развито в нас и чувство истории. Но знает историю скорее как идеологию. Под знаком идеологизированности истории прошли у нас несколько десятилетий после «перестройки».
Мария Скрягина: Я так понимаю, что начиная свой творческий проект по истории в театре, Вы хотите преодолеть «идеологизированность истории»? Это было важно для Вас в отборе драматургов для участия в лаборатории?
Капитолина Кокшенева: Наверное, можно сказать и так, если под «идеологизированностью» понимать принятое презрение к недавней собственной истории как исключительно «империи зла», а к народу – как неспособному к рыночному успеху «совку». Но самым существенным мне представляется процесс денационализации русского человека. Им усиленно занимались весь XX век и к концу его достигли немыслимых результатов. «Русские как угроза миру» – никогда не забываемый нашими партнерами политический слоган, регулярно появляющийся на мировой сцене. Все реформы в стране после 1986 года проводились поперек русской идентичности, но за русский счет. Такие реформы не должны были быть успешными, – именно поэтому произошли чудовищные социальные расслоения, взлом базовых ценностей, а также фундаментальных «институтов идентичности»: идентичности цивилизационной (Россия – «отсталая», русские – нецивилизованные, «носители рабской психологии»); исторической (русские – тоталитаристы, «несправедливо владеющие самой большой территорией», превращенной ими в «империю зла»); культурной (отказ от культурной нормы и табу ради ложно понимаемой свободы и активное заполнение западными культурными формами ежедневного пространства – от кино до всевозможных ток-шоу). Эти информационно-маркированные «определения» оказали самое негативное воздействие на современного русского человека.
Да, Фонду в моем лице важным представляется иной подход: внимание к себе, внимание к тому, что в истории повторяется; анализ исторических событий и осознание катастроф, которые с нами произошли. И недавно. И прежде. Драматург Елена Богданова в своей исторической драме, посвященной Революции 1917 года говорит о Вере Брауде, рассматривая ее как образец особой, востребованной эпохой «диктатуры пролетариата, личности». Вера Галактионова в драме «Спящие от печали» представляет и совсем недавние события – распада СССР; её герои - дети России, оставшиеся за пределами родины. Юрий Лугин (Лукин) смог удивительно свежо и трагично посмотреть на Великую Отечественную войну, действие его фронтовой драмы «Горел» происходит в тылу, в детском доме, в 1945 году. Дмитрий Романов тоже говорит о революции 1917-го, но через проблему отречения Государя, назвав так же и свою драму. Андрей Убогий расскажет о советской истории через «Музей исчезнувших вещей». «Страсти по Самозванцу» Александра Игнашова как раз неминуемо поставят перед нами и вопрос понимания Большой истории, в которой не раз происходили сломы, сдвиги, сшибки; в которой не раз вся русская жизнь объявлялась «плохой» и начинался спор об исторической правоте и справедливости.
Мария Скрягина: Насколько для драматургов, участвующих в проекте, важен сам исторический документ? Я бы отметила даже, что сегодня все, что представлено в режиме реалити очень популярно – от реалити-шоу до художников ленд-арта, представляющего свои инсталляции в пространстве живой природы.
Капитолина Кокшенева: Это так. Впрочем, знание истории культуры позволяет мне напомнить, что нынешние стремления стереть границы между искусством и жизнью, очень не новы. Вообще-то все дело в культурном режиме: есть, например, фестиваль лимонов, фестиваль пива, красок, воздушных шаров, зонтиков, слонов и тигров, яично-мучной и томатный и т.д. А есть и в самом ленд-арте «художники», которые шастают по заброшенным деревням, поджигают деревянные дома и снимают это на фото. А потом выставляют как «уникальный» продукт…
Так и с документом: кто, что и зачем представляет? Кто и зачем дает жизнь документу? В истории, как и в искусстве, можно создавать симулякры и искусственные значимости, помещая «ничтожное» в академическую рамку, в пространство признанных культурных институций. И, напротив, накопленное как «историческая правда» объявить несущественным и не актуальным. Впрочем, во все времена, говорят нам историки, в художественных и исторических спорах на первом месте стоял прием argumenta ad personam – «опровержение мыслей противника посредством опорочивания его как личности». Я надеюсь, что мы счастливо избежим подобных приемов в спорах.