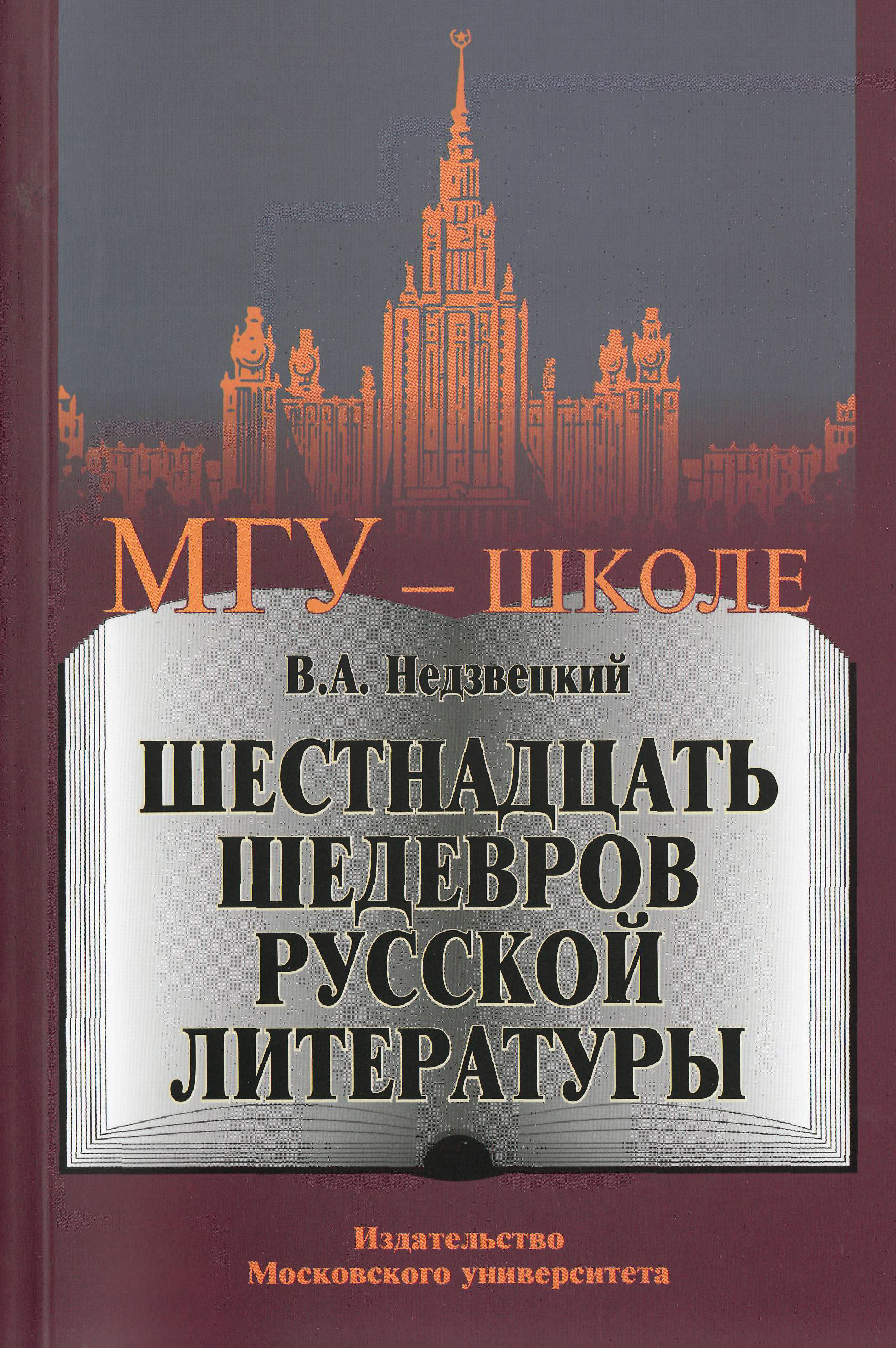 Валентин Александрович Недзвецкий (1936-2014) - российский литературовед, доктор филологических наук, заслуженный профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, президент Ассоциации вузовских филологов (1992).
Валентин Александрович Недзвецкий (1936-2014) - российский литературовед, доктор филологических наук, заслуженный профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, президент Ассоциации вузовских филологов (1992).
Автор пишет о том, что десять лет, минувших со времени внедрения в наше общее школьное образование ЕГЭ, отчётливо выявили, наряду с положительными результами этой модернизации, и серьёзную утрату, обусловленную прежде всего маргинализацией в школе такого учебного предмета, как русская классическая литература. Уникальная по своему образовательному и воспитательному потенциалу дисциплина не только потеряла во времени её преподавания (всего два недельных часа в старших классах!), но фактически перестала быть обязательной для всех учащихся. Какому-то странному затемнению подвергся тот факт, что национальная художественная литература - это не некая иллюстрация современной ей жизни в лицах, а выработка и средоточие духовно-нравственных и эстетических идеалов россиян, системы их коллективных и персональных ценностей, самобытного взгляда на мир и жизнь и, конечно, самосознания нации, как и важнейшее руководство в формировании полнокровной, свободно-ответственной и исполненной чувства своего достоинства личности.
Русская классическая литература нередко называется и "русской философией, русской моралью, этикой и русским познанием божественного". В первую очередь русская литература формировала общенациональный язык, которым в его основе мы пользуемся по сей день. И без которого невозможно научить школьников современному литературному языку.
В данном пособии отобраны выдающиеся произведения русской литературы. Они проанализированы монографически, но в том объёме, который доступен с учётом заруженности и преподавателю, и студенту, и школьнику.
Тринадцать статей представляют отечественную классику XIX века. Но художественными шедеврами русская литература не оскудела и в XX столетии. В настоящей книге в аспекте одной из важнейших его проблем проанализирован цикл повестей Василия Белова "Воспитание по доктору Споку", а монографически - роман Александра Потёмкина "Русский пациент", дана общая характеристика этого высокодаровитого и плодовитого прозаика.
«Меня больше всего волнует кризис самой природы человека»
(о романах А. Потёмкина)
Творчество каждого самобытного художника, каким я считаю и Александра Петровича Потёмкина, наряду с внутренней логичностью его развития всегда имеет то подспудное объединяющее начало, которое я несколько старомодно назову общественно-эстетической позицией автора. Или его, этого автора, творческим стимулом и основной гуманитарной целью.
Наличие такой цели у крупнейших русских художников слова было тем более естественным, что, по верному наблюдению Николая Бердяева, создавая и высочайшие художественные ценности, они не оставались только «в пределах литературы», ибо «искали преображения жизни» своим творчеством (Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 113).
Духовно-нравственным судиёй в духе пушкинского Пророка («Глаголом жги сердца людей!»), а вместе и оживителем своих соплеменников ощущал себя со времени «Ревизора» Н.В. Гоголь, недаром именовавший свое писательство и «авторские обязанности» общественным «поприщем», «служением» и «кафедрой», с которой много «уроков» можно и должно сказать миру. Именно эта позиция создателя «Мертвых душ» давала ему как надежду представить своим соотечественникам «несметное богатство русского духа» в лице «мужа, одаренного божескими доблестями, или чудной девицы <…>, какой не сыскать нигде в мире», так и право бесстрашно показать им же их нынешнее «оскотинившееся лицо».
Рационалист Н.Г. Чернышевский создавал в Петропавловской крепости свой роман «Что делать?» с твердой уверенностью, что по крайней мере часть современных ему «старых людей», т.е., как думалось ему, неправильно понимающих потребности своей родовой природы и поэтому людей злых (предельно эгоистичных) или несчастных, сумеет, усвоив новое учение о составе этой природе (антропологический материализм Л. Фейербаха), «перевоспитаться в процессе чтения» его романа в натуральных альтруистов и коллективистов.
Ф.М. Достоевский в своем романном «пятикнижии», развенчивая рационалистические иллюзии Чернышевского в способах нравственного преображения современника («Одни разум, наука и реализм, -- писал он, -- могут создать только муравейник, а не социальную гармонию, в которой можно было бы ужиться человеку»), тем не менее сам ставит перед собой титаническую задачу «восстановления погибшего человека, задавленного <…> гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков». И для ее решения создает роман беспрецедентного типа – роман мистериальный, или романизированную мистерию. То есть произведение, которое заставляет читателя его не прочитать, а «пережить» и «выстрадать» (Д. Мережковский), так как это действительно мистерия, к тому же по образцу не языческих (например, Элевсинских в Древней Греции), а великой мистерии Иисуса Христа. Ведь и главные герои Достоевского (Родион Раскольников, инженер Кириллов, Иван Карамазов, отчасти и все прочие), в соответствующих романах не просто так или иначе действуют, но совершают воистину свои крестные пути, ибо они и оглядываются на Благовест Христа (ср. с ним идеи, захватившие названных героев Достоевского), и моделируют свои поступки этапами, которые проходит Богочеловек от начала Его проповеди до Распятия и последующего Воскресения. А читатель этих романов не просто наблюдает, сочувствуя им или возражая, а посредством особых психологических приемов художника – с ними отождествляется, превращаясь в их двойников. И в этом качестве проходит с ними их нравственный путь как свой собственный. С тем, чтобы, искусившись аморальными «идеями» этих героев Достоевского (прежде всего намерением «по совести» переступить принцип «Не убий»), затем испытать страшное нравственное потрясение этим деянием (пережить свою Голгофу) и в конечном итоге либо нравственно очиститься, и «переродиться» в новое – гуманное и гармоничное – существо, либо, подобно самоубийце Кириллову и соучастнику отцеубийства Ивану Карамазову окончательно погибнуть, физически или нравственно.
Замечательными этико-эстетическими стимулами и целями мотивировано литературное творчество Льва Толстого. По его признаниям, он прежде всего хотел, «чтобы его все любили», т.е. надеялся своим «писанием» (так, по аналогии с Библией Толстой называл, в частности, свою «Войну и мир») стать душевно близким и родственным миллионам людей. Но он же хотел указать человечеству и те, по его терминологии, «естественные», а не «искусственные» жизненные начала, которые, вопреки сословному обществу и Государству, людей разъединяющему («Государство есть заговор не только для эксплуатации, но и для развращения людей»), их подлинно сближают и объединяют. Наконец, писатель Лев Толстой был совершенно уверен: «Мир погибнет, если я остановлюсь».
А каков творческий императив уже многолетнего и весьма плодовитого писательского труда Александра Потемкина? Тот императив, который при его определенности нравственно-эстетической личностью Александра Петровича в немалой мере зависит и от состояния окружающей всех нас российской действительности. На особых чертах которой по этой причине в нашем разговоре придется остановиться.
Вот уже больше двадцати лет эта действительность пребывает, как утверждают власти, в переходе от советского жизненного уклада к совсем другому и якобы намного лучшему; на деле же – в глубочайшем и всестороннем кризисе, сомасштабном с однородным системным кризисом патриархальной России в 1860-е годы ее традиционными социально-политическими, морально-нравственными, этическими, эстетическими, семейными и бытовыми устоями и нормами. Фиксируя их коренной пересмотр и крушение, тогдашние русские писатели поясняли его понятиям всеобщей «газообразности» и болотной зыбкости (весь русский быт, «общественный и семейный», по И. Тургеневу, заходил, «как болотная почва, ходуном»), «какого-то глубокого, всемирного разложения» (И. Гончаров) или жизненного хаоса, в котором «нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже <…> и шекспировских размеров художнику» (Ф. Достоевский), а также «взбаламученного моря» и «водоворота», как назвал два своих романа об этой поре А. Писемский, наконец, как Л. Толстой в «Анне Карениной» (а это уже 1877 год) формулой: в России «все переворотилось и только еще начинает укладываться». Первоосновой всех духовных кризисов того времени был кризис религиозный, на редкость точно запечатленный Ф. Тютчевым в его знаменитом стихотворении «Наш век» 1851 года: «Не плоть, а дух растлился в наши дни. / И человек отчаянно тоскует… / Он к свету рвется из ночной тени / И, свет обретши, ропщет и бунтует. / Безверием палим и иссушен, / Невыносимое он днесь выносит…/ И сознает свою погибель он, / И жаждет веры, но о ней не просит…».
Типологическое сходство России нынешней с Россией полуторавековой давности позволяет сравнить морально-нравственные результаты их общественных кризисов, но сравнение это будет отнюдь не в пользу нашей нынешней нравственной ситуации. Поясню это всего одним, но крайне выразительным фактом – отношением наших предков и нас самих к детям.
В 1876 году в Петербурге произошло постыдное для всякого родителя, но по своим масштабам вполне микроскопическое событие: один столичный житель, некто Станислав Леопольдович Кронеберг в воспитательных целях шпицрутеном «высек ребенка», свою «семилетнюю дочь», после чего «сам почти упал в обморок» (См.: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 22. СПб, 1981. С. 50). «Ну и что, кому какое дело», -- возможно скажут тысячи нынешних родителей. А то, что в тамошнем Петербурге Кронеберг был сразу же привлечен к суду, предъявившим ему обвинение в «в истязании» своей малолетней дочери, за что ему, не окажись его адвокатом знаменитый В.Д. Спасович, полагалась не больше, не меньше как ссылка в Сибирь. К счастью для подсудимого и самой девочки, которая в ином случае на долгие годы осталась бы сиротой да еще с чувством невольной вины перед отцом, Кронеберга оправдали.
Показательно, однако, другое. Дело Кронеберга не только «широко освещалось в прессе», а его известность «послужила толчком для возбуждения в разных городах еще нескольких подобных дел» (там же. С. 346), но на него, несмотря на месячное опоздание, специальной большой статьей откликнулся в своем «Дневнике писателя» Федор Достоевский. В ней он, одобрив милостивое решение присяжных, одновременно поставил целый ряд моральных вопросов: как о травмировании детской психики самим участием ребенка в суде, куда маленькую дочь Кронеберга «притянули» взрослые, так и об институте адвокатуры, и о различии между истиной юридической и нравственной… Словом, как будто бы рядовая семейная обида, нанесенная маленькой девочке, к тому же не извергом, а любящим ее отцом, возбудила широкое общественное внимание к тому, что мы сейчас назвали бы достоинством и «правами ребенка».
Увы, в наши дни мы, россияне, почти ежедневно слышим о дичайших надругательствах над нашими детьми, больше того, об их чуть не массовом убиении. Не успела померкнуть история с похищением девочки в Ростове на Дону (а ранее об убитой педофилом в другом южном городе), как ТВ-новости сообщили нам о женщинах, выбросивших своих детей с 15-го и 16-го этажей их домов, а потом о матери, проломившей голову своему восьмилетнему сыну и собиравшейся убить его старшую сестру, затем о роженице, бросившей свою двухдневную малютку в картонной коробке среди снежного сугроба. Чудовищные факты сообщались в одной из статей «Новой газеты» от 17 октября 2011 года: жительница поселка Тинской Нижнеингашского района, пьяная, после ссоры со свекровью сожгла в печи семимесячную дочь Софью – та раздражала ее своим плачет. «Аналогичные происшествия – матери сжинают своих детей в печах – произошли в Тверской, Амурской, Кемеровской областях, в Коми. В Якутии бабушку раздражал плач семимесячной внучки, и она сожгла ее в печи. В Бурятии отец сжег годовалого сына, второго сына из печи успела вытащить мать. <…> В селе Катунское Смоленского района Алтайского края женщины сожгли заживо годовалого ребенка: он мешал пятерым селянкам выпивать».
Как видим, сегодняшняя Россия полна событий такого рода, что столь взволновавшее Петербург и остальную страну «преступление» Кронеберга рядом с ними выглядит просто отцовской шалостью. Но где же ныне хоть какая-нибудь общественная реакция на них? Я не говорю о нашем телевидении: для него хладнокровные дикторские сообщения о подобных изуверских деяниях - лишь средство для увеличения рейтингов своих передач, следовательно, и доходности телеработников. Не слышал я, чтобы приведенные факты смутили совесть кого-нибудь из депутатов нашей многочисленной Госдумы или членов Совета Федерации, озабоченных, видимо, куда более важными «государственными» проблемами. Но почему молчит интеллигенция соответствующих областей, краев: тамошние учителя и матери-учительницы, преподаватели вузов, в первую очередь гуманитарии, честные местные журналисты, писатели, казалось бы, уже в силу своей особой душевной организации остро переживающие не только изуверское преступление, но и малейшее попрание человечности? Почему игнорирует эту вопиющую тему Союз российских писателей? Неужто она, как некогда полагали советские идеологи наших «инженеров человеческих душ», представляется им всего лишь бытовой, а значит, мелкой?
На мой взгляд, и одного из зафиксированных фактов чудовищного глумления не только над ранимой психикой ребенка, но самой его жизнью достаточно, чтобы усомниться в нравственном здоровье российской нации в ее нынешнем состоянии. А приведенная их многочисленность наводит на мысль о нашей общей нравственной невменяемости и моральном вырождении в итоге какой-то эпидемии, в той или иной мере охватившей сегодня всех.
Частным ее итогом стало не падающее с годами, а лишь возрастающее в стране количество тех психопатологических отклонений – психозов, невротики, истерии, раздражительности и безудержной немотивированной агрессии, - ряд носителей которых так выразительно представил нам в своем «Русском пациенте» Александр Потемкин. Те или иные патологии ныне правят бал повсюду, будь то школа, где ученики старшие с садисткой сладострастием могут избивать младших и где в большом почитании взаимная детская «жесть», семья, где жена «заказывает» супруга и наоборот, а мечтающий о родительском наследстве сын-бездельник – их обоих, благополучный с виду трудовой коллектив успешной фирмы, где никто не застрахован от своего молодого и тихого юриста Виноградова, что взял да и расстрелял в упор шесть своих сослуживцев.
Но и эти, почти обыденные патологии, повторяю - лишь следствия овладевшей нами эпидемии, а не она сама, так как у ней другое название. И это даже не бесконечное российское долготерпение, в ответ на которое Н. Некрасов упрекнул свой народ резонным вопросом: «Неужто хуже был бы твой удел, Когда б ты менее терпел?» Это - массовое равнодушие россиян к своей общей судьбе и их аномальное привыкание к тому, к чему нельзя привыкнуть, не лишаясь личностного и национального достоинства и самоуважения, а с ними и исторического бытия своего народа.
Эпидемия, о которой я говорю, не физического или психического, а нравственного рода, что делает ее национальные последствия еще более страшными. Ведь за минувшие двадцать лет мы привыкли, что в течение этого времени – беру статистику! - вымерло более 7 миллионов русских (а в Сибири за последнее десятилетие исчезло 11 тысяч деревень и 290 городов), что по количеству убийств на 100 тысяч жителей мы в 40 раз превышаем страны Евросоюза, что ежегодно Россия теряет по численности населения целую область, равную Псковской, или город, такой как Краснодар, что по продолжительности жизни мужчин Россия занимает 160-е место в мире, уступая даже Бангладеш, что от 8-ми из 10-ти стариков, проживающих в приютах, родственники отказались, что сейчас у нас от 2-х до 5 миллионов беспризорников (после Великой отечественной войны их было 700 тысяч), что мы занимает 1-е место мире по числу детей, брошенных родителями и что мы на одном из первых мест в мире по детскому суициду. И т.д., и т.п.
Сегодня в России нет недостатка в литераторах, превративших писательское дело в выгодные бизнес-проекты, и литераторов-«клонов», демонстрирующих изощренное умение не развивать гуманистический дух русской классики, а имитировать ее стили и бесконечно играть ими, и даже отнюдь не бездарных авторов, популярности ради отдающих свой талант смакованию «пацанских» нравов и добродетелей. Но крайне мало авторов с сознанием должной общественной ответственности за свое слово, которое у его мастеров и есть их дело, как очень немного и тех, кто способен написать новое «Не могу молчать», хотя причин для этого в нашей нынешней жизни предостаточно.
Тем более интересен и дорог мне такой наследник «святой русской литературы» (Томас Манн), как Александр Потемкин, недюжинный талант которого неразделен с чуткой совестью, остротой нравственного чувства и сердечной болью за многократно и многообразно униженного соотечественника и нашу с вами вот же два десятилетия пребывающую в стабильном инерционном болоте и только все активнее обираемую и разграбляемую родину.
Если трещина пройдет через мир, то она непременно пройдет через сердце поэта, утверждал Йоган-Вольфанг Гёте, имея в виду, конечно, подлинного художника слова, в ряду которых я вижу и виновника нашего сегодняшнего собрания.
Теперь можно ответить на вопрос о том этико-эстетическом стимуле (цели), который вот уже много лет побуждает этого состоятельного человека, признанного крупного ученого (он доктор наук, профессор экономического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН и генерал-лейтенант налоговой службы), счастливого супруга и отца шестерых детей (младшей из которых 7 лет), сочетать обусловленные всеми этими ипостасями обязанности с неимоверно трудной и часто столь же неблагодарной миссией русского писателя.
Думаю, это органичный Александру Потёмкину нравственный императив --противостоять и неустанно разбивать наше равнодушие и беспамятство к самим себе, к своему невероятно исстрадавшемуся за людоедское двадцатое столетие, но, как скажет герой «Русского пациента», и «самому страстному <…> и самого образованному» народа в мире, творцу и носителю необыкновенного в своем акустическом, интонационном и лексико-грамматическом богатстве языка и великой литературы, за которой к нам по сей день едут молодые и зрелые японцы, южные корейцы, итальянцы, шведы и американцы, словом, граждане стран, уровень и качество жизни в которых для нас пока недосягаемы. Это - неизбывная потребность могучей силой высокохудожественного слова ответить и на те оскорбления, что публично наносятся целой стране ее нынешними хозяевами, олигархами Гусятниковыми и градоначальниками Пуговкиными, и на то истязание, которому некая самодурка от педагогики недавно подвергла школьника-инвалида. Это и потребность внушить своим соотечественникам из числа совершенно отчаявшихся изменить свою жизнь к лучшему, в виду ее бесконечной беспросветности, бесперспективности и безнадежности, веру в такую возможность фигурами, например, двух женских героинь Потёмкина – Кати Лоскуткиной из романа «Кабала» и Евгении Головиной из «Русского пациента».
Обрисованная цель (или цели) потемкинского творчества достигается в нем, думается мне, вполне адекватными данной задаче художественными средствами. Главное здесь – доведение патологических морально-нравственных тенденций современной России, развращающих всех и каждого из ее людей, до их логического итога, каким бы уродливым и шокирующим он ни оказался. Основные же орудия в этом деле – гротеск, гипербола и беспощадная в своей жесткости ирония, не чадящая и читателя. Здесь Потёмкин прямой ученик Ф. Достоевского, так ответившего в 1878 году одной из своих почитательниц, искавших у него морального утешения: «Вы думаете, я из таких людей, которые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорбь? Мне многие это пишут – но я знаю наверное, что способен скорее внушить разочарование и отвращение. Я убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это».
Отказ убаюкивать читателей, полагаю, объясняет и неприятие потемкинского творчества определенной частью нашей читающей публики. Сказывается, конечно, и консерватизм давно сложившихся вкусов и критериев художественности, среди человеческих инерций один из самых упорных. При этом обычно забывается пушкинское: писателя надо судить по законам, им над собой признаваемым. Большей частью поступают наоборот, нередко даже профессиональные историки литературы, казалось бы, хорошо знающие, как всегда и повсюду встречались новаторские литературные создания. Например, пушкинские «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин» (в его неприятии – «Ужели это поэзия? И «chute complete» -- сошлись даже идейные враги: декабристы А. Бестужев, В. Кюхельбекер и охранитель Ф.Булгарин), гоголевские повести (якобы «грязные»), «Бедные люди» (в оценке К. Аксакова) и основные романы Достоевского (якобы «жестокого таланта»).
Лично я испытал от знакомства с повестями и романами А. Потёмкина огромную радость прежде всего от самого факта существования в нынешней России такого незаурядного художника. И от убеждения, что его проза способна многих душевно поднять, даже возродить. Удивление и восхищение вызывает у меня творческая смелость и дерзость, редкая даже среди профессиональных писателей впечатлительность и отзывчивость этого автора, неистосчимость его творческой фантазии, виртуозность перевоплощений в своих, большей частью совершенно далеких от него и несхожих между собой персонажей, верность каждому из них их речи, блеск литературной ономастики и топонимики (обратим внимание на богатую ассоциативность названий даже реальных городов Канска и Вельска, где действуют герои «Кабалы» и «Русского пациента: в контексте этих произведений первый город оказывается созвучным Кане Галилейской, второй, через польское wielki – “великий”, намекает по меньшей мере на всю бескрайнюю российскую провинцию), умение организовать романное действие без общей фабулы, посредством унисона или контрапункта нескольких жизненных позиций, отличающих основных персонажей потемкинских повестей и романов. Читая их, я не раз ловил себя на невольной зависти к воистину энциклопедической эрудиции Потёмкина, ибо она вовсе не ограничена глубоким усвоением литературы (от Библии и античной трагедии, «Божественной комедии» Данте и гётевского «Фауста» до прозы Н. Гоголя, И. Гончарова, М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Достоевского, Е. Замятина, И. Бабеля, М. Булгакова, А. Солженицына, Томаса Манна, Ф. Кафки, А. Камю и многих других) и экономическими познаниями, но гарантирует читателю и полную убедительность такого, скажем, «специального» героя, как психопатолог Наум Райский («Русский пациент»).
Я могу только поблагодарить Александра Потёмкина за онтологическую емкость его лейтмотивов, в особенности мотива антропологического кризиса (даже биологического тупика) homo sapiens'а, - проблемы, которая в последние десятилетия все чаще и настоятельнее осмысливается и крупнейшими учеными всего мира. И еще за одну своеобычную примету его творческой личности, именно – сочетание-слияние в ней художника от Бога с выдающимся ученым и опытнейшим практиком. Так, Потёмкин достигает собственно эстетического эффекта даже при оперировании цифрами – это новость в русской литературе за все время ее существования.
Недзвецкий В.А. Шестнадцать шедевров русской литературы / В. А. Недзвецкий. - М.: Издательство Московского университета, 2014. - 336 с. (Серия "МГУ - школе")
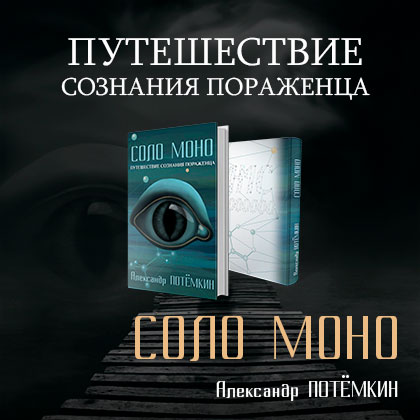







.jpg?v=636223265243753262)