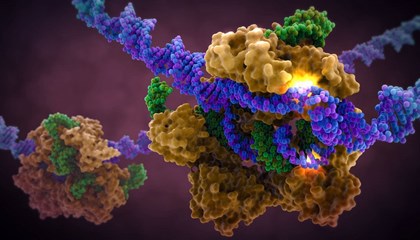Прочтя роман А.П. Потемкина «Изгой», мы узнаем о стиле жизни французской элиты куда больше, чем из солидных социологических изысканий. Мы сможем ощутить утонченное обаяние их повседневности, и понять их острейшие духовные коллизии, чего не в состоянии дать не только труды социологов, но даже социальных психологов или психоаналитиков. Именно литература - точнее то, что французы называют belle letter, родившееся вместе со стилем французского романа, – способно открыть взору человеческому душу культуры.
С первых же страниц романа «Изгой» понимаешь, сколь нужен он российскому читателю: ведь речь в нем не только о проблемах французского аристократа, а о темах общечеловеческих, а тем самым – и наших с вами. И вряд ли случайно, что написан он немцем с русскою душой.
Экономист А. Потемкин сумел понять в нашей российской жизни многое, сокрытое не только от поверхностного взгляда, но и от заинтересованного внимания ангажированных адептов российского реформаторства. Он с горечью констатирует, что с уходом коммунистической идеологии «на российский народ опустилась непроглядная тьма – коррупционная, циничная, античеловеческая в своей дьявольской разрушительной энергии бюрократическая идеология... В оппозиции к безоглядным апологетам монетаризма «Чикагской школы» с их методологически невзыскательной апологией «невидимой руки рынка» как универсального средства решения всех социальных проблем, А. Потемкин доказывает, что современная российская экономика, принимающая все более виртуальный характер, не в состоянии долго сохранять равновесие сама по себе.
Профессионально занимаясь экономикой как академической дисциплиной, А. П. Потемкин по-человечески глубоко переживает социальные последствия неоправданно жесткой компрадорской приватизации, приведшей к обнищанию большей части населения страны и невиданной в послепетровской истории России люмпенизации интеллигенции.
Если в его предыдущих литературных сочинениях сюжетная событийность мощно раскрученного действия явно довлела психологической реконструкции мыслей и поступков героев, то художественная пластика романа «Изгой» иная. Здесь сюжетная разверстка минимальна. В его первой части, повествующей о жизни А. Иверова во Франции, почти ничего не происходит, – не считая его внезапного отъезда в Россию. Нет в нем ни одержимых религиозным прозрением охотников за человеческими душами (И.Г. Черногоров), ни напряженной драматургии авантюрно-приключенческого действа, лихо закрученного потемкинским «Игроком» в вагонах мчащего в столицу фирменного экспресса. Главное действие нового романа разворачивается не в казино или на фондовой бирже -оно в душе человеческой. Это внутренние действия-переживания, обращенные на постижение происходящего и в мире, и в самом себе (и то, и другое переливают друг в дуга и сливаются друг с другом - такова нагрузка понятия «виртуальности» в его литературном прочтении). Смысловой стержень романа – глубокие раздумья о назначении человека, о судьбах современной цивилизации, культурно-антропологической цене прогресса, экономических и социальных последствиях глобализации. В нем автор впервые поднимает планку социально-экономических обобщений до подлинно философского уровня, задаваясь вопросами воистину всечеловеческого масштаба.
Первоначальный замысел названия романа – «Идиот» – роднит его с одноименным романом Ф.М.Достоевского; да и задуманные автором последующие части трилогии - «Грех» и «Покаяние» - тематически перекликаются с романами великого русского писателя – «Преступление и наказание» и «Бесы». Сметающий любые преграды авантюризм Алтынова состязается с цинизмом Ставрогина, а душевная уязвимость и кристальная чистота детски-непорочной души князя Мышкина во многом сродни душевному аристократизму и безупречной порядочности князя Иверова. Но есть между князем Мышкиным и князем Иверовым одно существенное различие: герой Достоевского болен душевно, Потемкина – духовно. Духовные искания Иверова – это культурные усилия умного, психически вполне здорового человека обрести свое место в современном мире, технизированном и отчужденном, отмеченным синдромом «ускользающего бытия» и «смерти субъекта».
Но Иверову удалось-таки обрести синтез душевного и духовного – в современной России. Но где? В психиатрической клинике им. Сербского! Именно в этом закрытом учреждении - то ли больница, то ли тюрьма - он впервые на протяжении всего романа находит достойных собеседников, равных себе по эрудиции и интеллекту. Впервые ощутил он здесь «роскошь человеческого общения»! (Л. Н. Толстой). Быть может, российская психушка – та самая точка социальной вселенной, где он обрел духовную гавань, признание как личность, а не повелитель золотого тельца, способный по-царски оплачивать внимание мировых знаменитостей. Прорыв к свободе, купленный валютной «зеленью», не радует его, и он идет навстречу любимой женщине с горькой укоризной на устах.
«Личное счастье, – убежден Иверов, – продукт виртуальности. Оно нравственно, т.к. не посягает на чужую собственность, мораль и свободу. Если же мое личное счастье – товар реальный, а значит, неизбежно затрагивающий интересы других, то в нравственном отношении это меня не устраивает». Как тут не вспомнить слов Ивана Карамазова о возврате Богу «счастливого билета» в грядущий «рай на земле», если в основании этого «царства справедливости» – хотя бы одна слезинка невинного ребенка? А. П. Потемкин – один из немногих современных писателей, кому удалось стать достойным преемником великих традиций психологического романа золотого века русской литературы. Роман «Изгой» - апология напряженных духовных исканий «лишнего» человека, столь характерного для русской литературы в ситуации, когда «распалась связь времен».
Лучшие страницы романа Потемкина посвящены описанию процесса душевного самоопределения героя, его поиска основ персональной идентичности – человеческих «зацепок» в отчужденном бытии. Подобно героям Ф. М.Достоевского, А. Иверов много размышляет о бытии «на грани» и «за гранью». Что побудило его замыслить самоубийство, усмотреть в нем единственный способ одним махом разрубить гордиев узел всех личных духовных проблем? Ответ – в самом названии романа. Он изгой, а значит - лишний на этом свете. Но А. Иверов никем и никуда не изгнан - он во внутреннем, «виртуальном» изгнании. Любимец всей Франции, он живет в доме своих предков – великолепном поместье Сен-Поль де Ванс на Лазурном берегу Ниццы. Стены его родового гнезда украшают полотна величайших живописцев: Ван Дейка, Веласкеса, Эль Греко; к его услугам – чудо-яхта «Святой дух» и парк шикарных автомобилей – безраздельных властелинов европейских дорог. Он владеет лучшими реактивными и моторными самолетами, богатейшей коллекцией минералов и оружия – от боевых топоров древних германцев до гранатометов талибов, стерших с лица земли гигантские статуи Будды в провинции Дамиан. Его исполинские аквариумы соперничают с богатством Мирового океана, а со страниц его фотоальбомов сияют лучезарными улыбками лица красивейших женщин современности. Его состояние оценивается в миллиарды долларов. Но. один из богатейших людей Франции, А. Иверов испытывает не только душевный дискомфорт, но в еще большей мере – духовную неудовлетворенность. Со страниц романа мы узнаем, что его виллу в Сен-Полъ де Ване посещают звезды политики и шоу-бизнеса, топ-модели и знаменитые артисты. Его светские воистину королевские рауты славятся изысканной утонченностью вкуса; к услугам его поваров прибегают первые лица государства, а прославленные дизайнеры обуви и знаменитые кутюрье считают за честь снять мерку с его ноги и фигуры. Но нет ли и у вас, читатель, ощущения того, что наги финансовый гений «покупает» внимание именитых гостей на час-другой, подобно тому, как он закупает – на год вперед – ласки модных красавиц? Каковы его душевные и человеческие привязанности, не считая почти сыновней преданности своему юристу Элизабетт Понсэн? Мы знаем, что он финансирует крупнейшие дипломатические саммиты и дорогостоящие кинофестивали, щедро спонсирует бывших соотечественников, не уклоняется от массивного участия в битвах крупнейших супервалют. Но с кем из заметных фигур современной культуры он дружит, кому пишет письма не моды или престижа ради, но по зову разума и сердца, когда гаснут огни его феерических карнавалов? С кем говорит по душам? С обитателями российской психушки, да – раз в год – с таким же, как он, финансовым аналитиком, г-жой Крайд.
И все же в роковой момент итоговых раздумий о смысле прожитого у подножья старого маяка А. Иверов находит в себе силы ухватиться за край ускользающего бытия, отогнать навязчивую идею оборвать нить жизни на 42 году на дне океанской пучины – под давлением «человеческого, слишком человеческого» (Ф.Ницше) в его натуре. Квинтэссенцией человеческой субстанции он полагает свободу. Осознание своего бытия как свободного, не заданного природной необходимостью и побуждает его в роковое мгновение перед прыжком в ничто круто изменить выстраданное решение и в лихорадочном поиске новых смыслов жизни обрести «российскую» траекторию своей дальнейшей судьбы. Бросить все и уехать в неведомую Россию, на родину предков, в «империю зла»! Именно там замыслил он обрести «радикально иной формат бытия» – абсолютную противоположность, изнанку наличного. От безграничного наслаждения - к безутешному страданию. К унижению, побоям, отбросам. ...Ибо «без страдания нельзя познать истинного величия духа». Так зов русской вечности превозмог искус мрака вечной пустоты.
Человек в отчужденном мире не живет, а функционирует. Вместо любви – секс, вместо надежд - программы, вместо счастья – успех. В упомянутом экзистенциализме стремление человека замкнуться в мире собственного сознания философски означает онтологизацию субъективной реальности, отождествление бытия с субъективностью. В экзистенциальном изгойничестве – истоки неотвязной устремленности к виртуальному миру на изломе сюрреалистического бытия.
Помимо культурных, изгойничество Иверова имеет и социально-экономические корни: триумф финансового капитала над промышленным, виртуализацию экономики в экономически продвинутых странах Европы. В Предисловии к «Элитной экономике» Потемкин-экономист определяет виртуализацию экономики как «резкое ослабление обычных причинно-следственных связей, практически полный отрыв денежно-финансового рынка от реалий производственной сферы». Погрузиться в виртуальную экономику, ставшую базисом «реального» производства, – словно витать в миражах. «Жить в современном фондовом рынке, иметь в нем успех - означает поэтапную виртуализацию сознания», – убежден его герой.
Стоит ли вообще делить восприятие бытия на две составляющие: «на самом деле» и «не на самом деле»? Где край бытия?» – философски размышляет он.
Иверов ищет в виртуальности оплот духовной свободы, преступающей путы торжествующего грубого утилитаризма. Он жаждет прорыва туда, где «дух бродит, где хочет» (Гете). Это платоновский мир подлинных эйдосов – сущностей, в сравнении с которыми вещи – лишь бледные тени на стенах пещер, удел которых - не бытие, но бывание. В виртуальном прибежище абсолютной свободы А. Иверов жаждет обрести экологическую нишу от перенасыщенного раствора искусственной среды, дегуманизирующего воздействия безудержного потребительства, инспирированного железной поступью техногенной цивилизации. Ибо удел современного человека - не материнское лоно живой культуры, но бездуховное пространство мертвой цивилизации, где животворящее семя культуры, прорастая, отвердело в скелетах машин и механизмов. В их железных объятьях культура заметно утратила изначальный гуманистический потенциал. В модернистском сознании она довольствуется инструментальной ролью гуманитарной упаковки современной техники. В этом качестве культура парадоксальным образом отрицает самое себя, обращаясь в досуговые технологии, – продолжение техногенных интенций современной цивилизации.
Виртуальный порыв А. Иверова устремлен в вечность, ибо человек современной цивилизации утратил контроль над будущим, природа покорена и омертвела в технопарках, а жесткие социальные технологии управления человеком привели к удручающему разгулу массовой культуры с присущим ей оголтелым эротизмом. Безвкусица масс глубже укоренена в действительности, чем рафинированный вкус интеллектуалов, полагал Брехт. Но как же трудно принять современную прагматическую инверсию массового сознания, где вместо морали – расчет, вместо ценностей - проекты, вместо общения – связь! Любовь редуцируется к сексу и на следующем витке отчуждения сублимируется в транссексуалъностъ. Сколько же усилий, дьявольских (колдовской порошок Папалардо) и профессиональных (эротический танец), пришлось приложить восхитительной красавице Ж. Марч, чтобы покорить А. Иверова всего лишь на время их единственного любовного свидания! Но ему самому так и не удалось отвратить Валентинова от обуявшей его мании трансвеститства, побудить его свернуть на стезю виртуальной телесности. Ибо виртуальная телесность бессмысленна по определению. Символично, что встреча Иверова с глашатаем трансвеститства Валентиновым происходит в Интернет-кафе – повседневном прибежище hi-tech, – где щелчок «мышки» распахивает окна-дисплеи в виртуальные миры. Рукотворное действо трансвеститства выражает нарастание абиотических тенденций современной цивилизации, триумф искусственного над естественным, психологически достоверно представленное автором в достойном жалости образе Валентинова. Дело, однако, в том, что человеческая телесность в значительно большей мере обусловила морфологию и смысловое содержание культуры, чем полагают приверженцы концепции культуры как сублимации чистого духа.
Осознание ценности человеческой телесности в самосознании европейской культуры происходит в контексте критики модернистских устремлений техногенной цивилизации. «Стальные руки-крылья, а вместо сердца – пламенный мотор» – сколь же чудовищен сегодня этот образ – метафора времен социалистической индустриализации! А чем лучше другой образ -оценка писателей как «инженеров человеческих душ»? На рубеже тысячелетий «футуршок» от докладов Римского клуба 60-80 г.г., похоже, сменился самоуспокоенностью и покорным принятием цивилизационных преобразований как неизбежных – без всякой попытки соотнесения их с человеческой природой. Так повелел извечный антагонист Бога – Дьявол. Драматизм напряженных духовных исканий А. Иверова сопряжен с трагическими коллизиями современной эпохи: ломкой модернистских ценностей в процессе перехода экономически продвинутых обществ от индустриальной к постиндустриальной эпохе, отказом от идеалов прогрессизма, покорения природы и создания нового человека. Переход к постиндустриальной, посттехнегенной цивилизации знаменует собой утверждение ценностей «неэкономического» порядка: образования, свободного времени, здоровья и сопутствующих им интенций ограничения потребления во имя сбережения здоровья и природно-кулътурных ландшафтов от натиска культурных воплощений инструментально-прагматического разума, подчинение экономики целям благополучия человека как родового существа. Подобное представление отчасти реставрирует ценности «детства человеческого рода». В древней Греции, где зарождалась общественная экономика, полагалось, что богатства нужно ровно столько, чтобы воспитывать достойных граждан – не больше.
Удивительно чуткий к малейшим колебаниям культурного климата, А. Иверов острее других ощущает пока что едва заметный перелом настроений на вакхическом пиру постсовременности. Погрузившись в дионисийское буйство раскрепощенной чувственности – погоню за очередным предметом вожделения – будь то человек, вещь, экзотический зверек или коллекционный экспонат - он мгновенно охладевает, тотчас теряя к нему былой интерес по достижении цели. Триумф победы повергает во мрак пустоты, в Ничто, и он с равнодушным презрением взирает на недавний предмет вожделения, теперь ничуть не нужный ему как предмет потребления. Более того, он всем сердцем отвергает объект своей победы. Его влечет лишь азарт игры, погони, схватки, консолидации всех социальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов. Игра стала метафорой его жизни, его интеллектуальной и эротической страстью. Ибо в ней - напряжение жизни, ее драматизм, ее полнота. И то, что сходное разочарование по завершении игры испытывает не только обремененный усталостью сверхпотребления миллиардер А. Иверов, но и азартные охотники за его богатством Ж. Марч и С. Папалардо, – знамение времени. Отхватив изрядные куски его состояния, обе дамы ощущают холодок сходного разочарования: исход борьбы, всепоглощающей и вероломной, не оправдал блистательных надежд! Ибо горький привкус обокравшей душу победы лишил желания желать. Но игра – удел homo ludens, и герои романа делают в ней непомерно высокие ставки.
Последним капризом изощренного потребительского тщеславия А. Иверова становится «самая роскошная, грациозная, самая красивая юная дама календаря 2001-02 годов» – двадцатилетняя модель из Лондонского дома высокой моды австралийка Жаклин Марч. На обретение этого сокровища он, не задумываясь, бросает 20 миллионов долларов, помноженных на отточенное мастерство поднаторевшей сводницы – личного агента по деликатным поручениям Анны-Валери Боллъ. Но вот годичный любовный контракт подписан. По-женски уязвленная внезапным охлаждением князя, красотка назвала его «удивительно странным субъектом». Сетовать на то, что мир устроен неправильно, рассуждать о пагубных последствиях глобализации с обнаженной, извивающейся в эротическом танце королевой подиума, жаждущей лишь поскорее покорить, подчинить себе тело А. Иверова, дабы приступить к выполнению статей сулящего заоблачные дивиденды договора – не глупость ли это чистой воды? Увы. Равнодушие князя к прелестям некогда желанной красавицы – синдром телесной отрешенности от чувственной реальности в пользу виртуального бытия. Развоплотитъся! Обратить себя в чистый дух, сознание, воображение! Обладать желанными диковинами не в их вещно-телесном исполнении, а в виртуальном мире идеальных объектов!
Но что же мешает А. Иверову полностью раствориться в виртуальности? Облик человеческий, воспитание, с которым – ничего не поделаешь. «Бог создал мир из ничего, но материал всегда чувствуется» (П. Валери). «Во мне слишком много человеческого, - заключает он, – той самой красной глины, из которой господь слепил человека думающего». И, добавим, чувствующего, переживающего, сострадающего. Ибо игра в виртуальность и ее экономическая разновидность – биржевая игра – свидетельство внутреннего перегрева Модерна. Она допустима лишь в тех социальных контекстах, где фундаментальные потребности людей удовлетворены. Но, услада homo ludens в условиях избыточного потребления, она – насмешка Мирового разума над теми, кому отмерены жалкие крохи на его Лукулловом пиру. Российский народ - самый виртуалистский в мире, рассуждает экономист А. Иверов. Ему всего недостает, а он радостен и весел.
Роман «Изгой» – словно ожившее полотно постперестроечной российской реальности. А. П. Потемкин с беспощадной правдивостью повествует о нравах, царящих в российском бизнес-сообществе, которое, надо полагать, познал «изнутри» как «вовлеченный наблюдатель». Он собрал и художественно осмыслил такие типажи российского предпринимателя, от которых в ужасе отшатнулись бы и А. Н. Островский, и Ф. М.Достоевский. Их собирателъным образом является Платон Филиппович Буйносов - живое воплощение жизненных устоев акул российского капитализма. Его жизненное кредо – «деньги любой ценой» - демонстративно попирает все нравственные устои человеческие. Он - машина, генерирующая масштабные финансовые проекты и тончайшие денежные аферы. Его подельник Ю. Алтынов и того круче: ни один финансовый поток не обогнет его мастерски расставленных ловушек, не обронив хотя бы капли.
Однако пора представить читателю и женское общество главного героя. В центре хоровода женских образов романа - подруга А. Иверова «по договору», королева подиума 2001-2002 г. г. красавица Жаклин Марч. Автор явно любуется им же вылепленным образом, скрупулезно выписывая тончайшие нюансы ее внешности и туалетов. Мы узнаем, что ее отличала необыкновенно-белоснежная, с едва уловимым розоватым оттенком чувствительная кожа. Ее фигура – «91-58-89», ее огромные, с грецкий орех, зеленые, почти бирюзовые глаза и томно приоткрытые пылкие чувственные губы разбивали сердца кавалерам всех европейских столиц». На сцену жизни А. Иверова она выходит походкой дефиле в огненно-красном («фаворит всех подиумов»!) брутально-открытом неимоверно провоцирующем, агрессивно-сексуальном обтягивающем платье с разрезами вдоль бедер. Чувственную завершенность ее облику придает тончайшая голубая лента, словно посланец нежности, обвивающая ее высокую шею.
В душе же ее причудливо перемешаны низкие страстишки (алчность, исступленная жажда богатства) и неизбывно живущая в женском сердце потребность в глубокой и пылкой любви. Поначалу пружиной ее интриги с А. Иверовым становится неистовое стремление заполучить обещанный ей баснословный гонорар (20 млн. долларов!) за совместное проживание с князем в течение года. Бесцеремонно вытолкнув из своей жизни прежнего любовника и расторопно втолковав юристу Иверова, что примирение со странностями ее клиента потребует от нее огромных душевных затрат, красотке почти удается взвинтить гонорар до 30млн. долларов. И вот она уже близка к цели, как князь внезапно исчезает. Однако испытав потрясение первого любовного свидания, Ж. Марч переживает чудо душевного преображения. Искренность ее чувств к Иве-рову по его отъезду в Россию не вызывает сомнений. Но и они не отвратили ее от того, чтобы, ничтоже сумняшеся, взломать его компьютерный банковский код и, не моргнув глазом, похитить у любимого миллионы! Воистину из кричащих противоречий соткано сердце красавицы!
Подобную же противоречивость нравственных чувств мы обнаруживаем и у дочери российского дипломата Виолетты Шиндяпкиной. Искренне сокрушаясь по поводу царящих в России лжи и коррупции, она с угодливой готовностью поддерживает клеветнический навет плутовки Вараскиной, щедро сдобренный пятитысячной долларовой взяткой милицейскому чиновнику. Что это? Извечная противоречивость женской натуры или же шизофреническая раздвоенность современного сознания, для которого «шизоанализ» (Ж.Делез) становится наиболее действенным средством познания? Вопрос не праздный.
Эксцентричной расчетливости Ж. Марч противостоит неистовая напористость в погоне за чистоганом А.-В-Боллъ и С. Папалардо. Образ итальянской авантюристки – воистину идеальный тип описанного М. Вебером авантюрного предпринимателя, и в то же время – бесспорная творческая удача автора. Ее феерическая, неуемная жажда обогащения, замешанная на беспардонном мошенничестве и моральной вседозволенности, позволяет ей идти напролом, безжалостно сметая с пути бывших сообщников. Авантюризм ее мышления и вероломство в отношении былых союзников завораживающе изобретательны. Точно просчитанные па дьявольской пляски ее азартного темперамента обнаруживают в ней человека новой породы, агрессивная пассионарность которого возносит ее над исконными человеческими понятиями добра и зла. Вот вам человек виртуального мира, живущий на потребу низменных страстей! Чего стоит одна ее гениально-прозорливая затея с распиской продажного российского чиновника Шиндяпкина о якобы полученных им деньгах на организацию охраны А. Иверова в России! Торговля страхом за дорогого юристу Иверова человека принесла ей баснословные дивиденды, сделав миллионершей. Автор откровенно любуется азартом матерого игрока на струнах человеческих пороков, мощной энергетикой бешеного темперамента итальянской колдуньи.
Щемяще-трогателен в своей сюжетной незавершенности образ Милы Семирадовой – студентки-практикантки вечернего отделения экономического факультета МГУ. Она с первого взгляда покоряет А. Иверова своей светлостью и женской деликатностью. Взгляд ее задумчивых синих глаз приводит в восторженный трепет самые чувствительные, тонкие лирические струны в душе А.Иверова, мощно взыгравшие на земле его предков. Целомудренная стыдливость сковывает руку автора при описании священного на все времена таинства зарождения любовного чувства. Но сколь узнаваема эта невесть откуда взявшаяся боязнь поднять глаза и встретиться взглядом!
В романе «Изгой» мы найдем и дальнейшую блистательную разверстку хитросплетений судеб полюбившихся героев, и сюжетную завершенность событийной канвы «Изгоя». Не менее важно и то, что в последующих романах культурное напряжение, рожденное драматической коллизией реального и виртуального, возрастая, обретет новые, доселе неведомые характеристики, требующие глубокого философского и литературного осмысления. Начало этому процессу и кладет роман А. П. Потемкина «Изгой», знаменующий собою новую веху в истории русского психологического романа.
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ДУШИ И РАЗУМА ЧИТАЙТЕ КНИГИ АЛЕКСАНДРА ПОТЁМКИНА
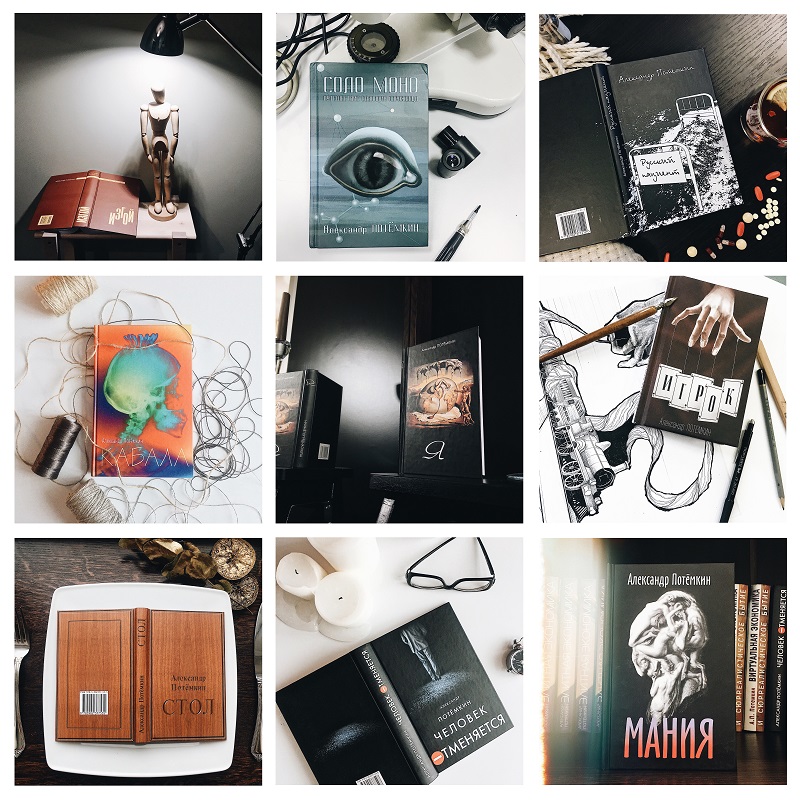
Книги можно купить на сайте Издательского Дома "ПоРог"
или заказать по телефонам 8-800-250-63-76, 8-495-611-35-11
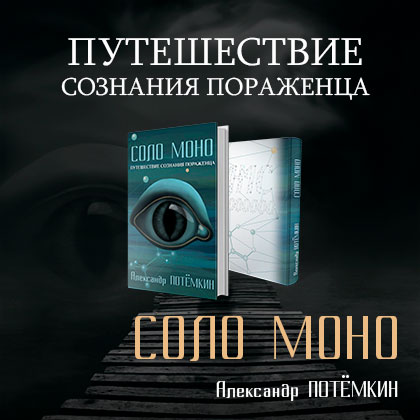

.jpg?v=636673516698902718)


.jpg?v=636223265243753262)